Л. П. Пискунов
Деревня Вёжи
На Костромском «море» есть заброшенный и заросший бурьяном и крапивой островок. До середины 50-х годов XX века на месте этого островка стояла деревня Вёжи, воспетая Н. А. Некрасовым в его знаменитом стихотворении «Дедушка Мазай и зайцы».
Жизнь нашей деревни определялась её географическим положением. Всё в Вёжах было не так, как в большинстве деревень. Все дома стояли, плотно прижавшись друг к другу, так как места на небольшой возвышенности, где стояла деревня, было мало, а всё вокруг весной заливало водой. Бани и огороды находились в стороне от деревни, за 250-300 метров и дальше. Осенью и весной, в сырую погоду, в улицах и проулках было грязно, так как было тесно и было много домашней скотины. В колхозное время в деревне находились еще и ферма коров, конюшня и телятник.
Все эти неудобства компенсировала окружающая природа. Приходила весна, затем лето. Заканчивался весенний лов рыбы, сплав леса, начинался сенокос, затем щипка хмеля, рытьё-копка картошки. На осень приходилась продажа излишков скотины, сена, дров.
Схема деревни
…
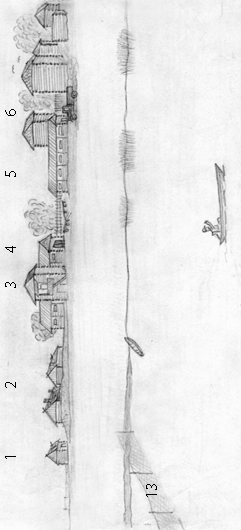
Рисунок А. П. Пискунова. 1992 г.
Весной в разлив единственным способом передвижения были лодкиботники. Даже в баню, в амбар ездили на лодках. Меженью, как сойдет вода, всё вокруг покрывалось зеленым ковром разнотравья, всё цвело, и запах цветов стоял по всей округе. В нашей низине был увлажненный чистый воздух. В сенокос, если бы посмотреть на округу Вежей с птичьего полета, вся наша низина приходила в движение: кто свозил копны, кто сгребал сено, кто метал стог.
Особое место в жизни Вежей и находящихся рядом деревни Ведёрки и села Спас занимала щипка хмеля. Эта работа была трудоемка и требовала дополнительных рабочих рук. В этот период из соседних деревень к нам приходило на заработки до сотни человек, в основном молодежь. На хмельниках в это время стоял шум, смех, а то и песни. Кто спускал с кольев ветви хмеля, кто сощипывал душистые шишки, кто корзинами относил хмель в овины на просушку.
В нашей низине было много озер, рек и речек, которые буквально кишели рыбой. Лов рыбы и торговля ею стояли если не на первом, то уж наверняка на втором месте по доходной части для жителей Вежей. Было много скота – коров, овец, в двух из трех домов имелись лошади.
Пожары всегда были бичом для жителей нашего Зарецкого края. Как рассказывали старики, иногда деревни выгорали дотла. После пожаров люди жили-мучились в землянках, банях, амбарах, проживали у родных в соседних деревнях, и снова обустраивались. Во второй половине XIX века в наших селах и деревнях стали строить кирпичные дома из кирпича, вырабатываемого на местных кирпичных заводах. Последний большой пожар в Вёжах случился 28 июля 1947 года, тогда сгорели 12 деревянных домов и все бани. А предпоследний – приблизительно в 1895 году. Как рассказывал отец, он в это время был еще в пеленках, пожар случился ночью, в Ильин день, у кого-то из вежан на сеновале спал пьяный гость, курил, в результате чего и пожар устроил, и сам сгорел. После этого пожара и началось в Вёжах строительство каменных и полукаменных домов. К началу XX века в деревне было построено таких домов с десяток.
До сих пор меня удивляет, как это наша деревня целых полвека, с 1896 года до 1947 года, прожила без пожаров. Ведь вежане жили как на пороховой бочке. Строения, дома, сараи стояли вплотную друг к другу, между некоторыми домами расстояние не превышало 60-70 сантиметров. В сараях всегда было полно сухого сена, у домов, во дворах были большие поленницы дров. И самое главное, в темное время суток (иногда и в годы моего детства, а раньше, наверное, всегда) во дворы ходили с горящей лучиной, ведь фонари («летучая мышь») появились только в 20-е годы, во времена НЭПа. Правда, надо отдать должное, во все времена проводился противопожарный досмотр и предупредительный инструктаж. В 1947 году пожар сотворил Пашка Горбунов, мальчишка из большой бедной семьи, ему было лет 9-10. Он поджог у своего дома кучу мусора. Был сенокос, стояла жара. Пожар был страшный. Позднее его семья переехала в Калиниградскую область, в Черняховский район. Пашка и там натаскал в дом с полей сражений снарядов и мин. Ковыряясь в них, он устроил взрыв такой силы, что и кирпичный немецкий дом, где поселили их семью, и его самого разнесло на куски. Видимо, такая ему была уготовлена судьба.
«Домики там на высоких столбах»

Вёжи. М. Г. Тупицын с дочерьми возле бань.
Особенностью Вежей было то, что много строений у нас стояло на высоких столбах (как и писал Н. А. Некрасов, «домики там на высоких столбах»). В Вёжах в мою бытность было два дома на высоких столбах. Это – дом Федора Александровича Горбунова, где жила большая его семья – пятеро детей (сам хозяин дома погиб в Великую Отечественную войну). Рядом с ним стоял такой, на три окна, дом Анастасии Ивановны Халатовой. Чтобы подняться в этот дом-избу, нужно было преодолеть лестницу в 26-28 приступков. Правда, столбы под домом были забраны забором, и там находился как бы двор, где стояла корова и другая скотина. Когда весной подтопляло, скотину уводили к кому-то родным.
Оба эти дома были построены в годы НЭПа, в 1923-1925 гг. Что интересно, дом А. И. Халатова построила за два пуда хмеля, хмель тогда стоил 100 рублей пуд. Вот за 200 рублей она купила лес, срубили ей сруб и сомшили (оба эти дома сгорели в пожар в июле 1947 г.). Надо полагать, что и до этих домов были дома с краю деревни на столбах, о чем писал Н. А. Некрасов. Такие дома находились и в Спасе, у Кубашина Петра, и в Ведёрках. В Ведёрках уже перед Великой Отечественной войной был построен клуб на столбах, но также забран снизу забором. Так как в центре деревни места не находилось, его, так сказать, прилепили с краю деревни, где подтопляли весенние воды.
На столбах находились и наши бани. Что интересно, наши бани были самые гигиеничные. Топились по-черному, и все микробы прокапчивались дымом и высокой температурой. Все нечистоты после мытья и стирки белья стекали прямо под баню, где облучались солнцем, выветривались, вымерзали зимой. В банях всегда был свежий запах и чистый воздух.
Предбанники были не мшоные, в полу – щели, и зимой, в мороз, когда одевались после мытья-паренья, на бородах и волосах успевали намерзнуть сосульки. Но простуды после этого были редки. Бани были большие: 4 х 4 м, 4 х 5 м, на 3-4 семьи родственников. В бане мылось-парилось сразу по 6-7 человек. Женщины стирали бельё в 3-4 деревянных корытах, а всего за одну субботу в нашей Пискуновой бане мылось-парилось до 20-24 человек.
Мазайхины — потомки дедушки Мазая
Пожалуй, самым старым в нашей деревне был Мазайхин дом, или, точнее сказать, дом дедушки Мазая (так его еще иногда называли). Он выделялся своей архитектурой – двухэтажный, окна второго этажа – полукруглые (такие окна во всех трех наших селениях, Вёжах, Спасе и Ведёрках, были только в этом доме), стены украшены пилястрами. Стены дома имели очень большую толщину, наверное, в четыре кирпича, помню, внизу подоконники были такой ширины, что на них можно было спать. Когда во время переселения в начале 50-х годов его разбирали, оказалось, что дом был сложен по глине, а не по извести, по его периметру оказалась заложенная в кладке металлическая стяжка из железной полосы с кованым креплением по углам. Такие стяжки оказались и в других домах, это объясняется тем, что грунт в Вёжах был слабый, подсыпной – навоз, мусор, привозимые из болота кочки и т. п. Первоначально, и видимо, давно, дом Мазая построили на три окна по лицу и три окна на бок, на главную улицу Вежей. Позднее, видимо, в конце XIX века, к дому с южной стороны сделали двухэтажную же пристройку на два окна. В этой половине во время моего детства, в 30-е годы, жил младший брат Сергея Васильевича Мазайхина, Павел Васильевич с женой и двумя дочерьми. По ширине всего Мазайхина дома шел мост-сени и сарай, всё было покрыто железом.
Во времена моего детства, в 30-е годы, в Вёжах жило четыре семьи Мазайхиных – две семьи братьев Сергея Васильевича и Павла Васильевича и две – братьев Кондратия Васильевича и Николая Васильевича.
У их отца Василия Ивановича была большая семья. Вот его дети: Агния, Анастасия, Мария, Сергей, Евдокия, Павел. Отец Сергея Васильевича и Павла Васильевича, Василий Иванович, жил в Мазайхином доме. Сестры Сергея Васильевича были выданы замуж: Агния Васильевна – в Вёжах за Константина Григорьевича Тупицына, у них было семь детей; Анастасия Васильевна – в село Спас, за Пелевина (о имени мужа и детях я уже не помню); Мария Васильевна – в село Петрилово за «барина» Гордееваб; Евдокия Васильевна – в Вёжах за старшего брата моего отца Александра Федоровича Пискунова, у них было четверо детей.
Сергей Васильевич Мазайхин был женат на местной крестьянке (она жила через дом) Александре Павловне Кузнецовой-Гурьяновой (Кузнецова – была её официальная фамилия, но все её знали под «уличной» фамилией Гурьянова, даже и дом их назывался «Гурьянов дом»). У них было восемь детей: Капитолина (1919 г.), Анна (1920 г.), Таисия (1922 г.), Лидия (1924 г.), Александр (1926 г.), Сергей (1927 г.), Николай (1931 г.), Евстолия (1935 г.). Несмотря на то, что мать их, Александра Павловна, являлась черноволосой, все их дети были в отца Сергея Васильевича русоволосыми. Во время I Мировой войны Сергей Васильевич был призван в армию, попал к немцам в плен, в котором провел около трех лет. Работал в хозяйстве немецкого крестьянина. Во время Великой Отечественной войны он уже не подлежал мобилизации по возрасту, но за работу в колхозе был награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Как сам Сергей Васильевич, так и его дети, все были очень скромные и трудолюбивые. Что удивительно, и Сергей Васильевич и его брат Павел не были рыбаками и охотниками. Сергей Васильевич всю жизнь занимался сельским хозяйством и имел большую любовь к лошадям-скотине. С момента образования колхоза и до 1948 года он работал колхозным конюхом, благо конюшня располагалась рядом с его домом – в бывшем дворе дома раскулаченного Московцева. Сергей Васильевич ухаживал за лошадьми ласково и усердно. Если лошадь назначалась в дальнюю поездку, то он ночью приходил на конюшню, добавлял корма, поил, а ездовому давал напутствие, чтобы следил за тем, чтоб хомутом и седелкой лошади не натерло шею и холку, чтоб перед кормежкой не забывал вынуть удила изо рта лошади. Его жена Александра Павловна при такой большой семье успевала только справиться со своей скотиной да приготовить нехитрую деревенскую еду.
Надо отметить, что и семье Сергея Васильевича, и еще его отцу Василию Ивановичу помогал петриловский «барин» Гордеев, женившийся, как сказано выше, на сестре Сергея Васильевича, Марии Васильевне.
С началом коллективизации, когда у наших крестьян отобрали земельные наделы, сенокосы и хмельники, семья Сергея Васильевича оказалась в затруднительном положении. К тому же весной 1936 года воры обокрали их совместный с Кузнецовым-Гурьяновым амбар, где хранились вещи, одежда, обувь и т. д. Но где-то в 1937-м или 1938 году вышло постановление Совнаркома о помощи многодетным семьям: на 7-го и 8-го родившегося ребенка выделялись большие по тем временам деньги. В связи с этим младших детей Сергея Васильевича, Николая и Евстолию, в деревне стали называть «тысячниками». Но и эта помощь, конечно, не принесла в их семью должного достатка, так как, работая в колхозе за трудодни, они мало что зарабатывали. Однако, надо отметить, что все члены семьи Сергея Васильевича, как до войны, так и позднее, много и честно работали в колхозе. Все Мазайхины, и Сергей Васильевич, и его сыновья не курили, и очень редко употребляли спиртное, были честные, скромные и трудолюбивые. К сожалению, из дочерей Сергея Васильевича замуж вышла только младшая Евстолия, и то уже в Костроме после переселения из Вежей. Старшая Капитолина умерла совсем молодой, примерно в 1938 году. А Анна, Таисия и Лидия по причине войны остались старыми девами: их женихи погибли на фронте. К тому же тяжелый военный и послевоенный труд мало оставлял времени для гулянок и знакомств, да и бедность семьи в то время, конечно, сыграла свою роль.
После затопления Вежей семья Сергея Васильевича переселилась в д. Клюшниково Каримовского сельсовета.
Брат Сергея Васильевича, Павел Васильевич Мазайхин, был уникальным по тем временам человеком. Лет с семи он научился играть на гармошке, которую, как говорили, подарил ему барин Гордеев, который не раз в начале века приезжал к Мазайхиным по праздникам в гости. Играть Павел Васильевич, будучи ребенком, учился, забираясь на чердак, и там, на свободе, не мешая никому, осваивал это искусство. Со временем он стал первым гармонистом во всей деревне. Кроме того, он был часовым мастером, чинил и настенные ходики, и карманные, с серебряными крышками, фирмы «Павел Буре». Он шил кожаные сапоги и подшивалремонтировал валенки, да так, что подшитые им валенки носились по три зимы. Он не курил, водку не пил, был скромен, честен и трудолюбив.
Женился он примерно в 1930 году на своей соседке, как говорили, из окна в окно, Серафиме Васильевне Даниловой. У них было две дочери: Манефа (1931 г.) и Галина (1938 г.). Их семья жила в пристройке дома Мазайхиных на два окна. В 30-е годы меженью и летом молодежь, придя с работы и передохнув, вечером собирались на обрубе или у Данилова дома на бревнах и скамейке, ожидая, когда Паша Мазайхин выйдет и растянет меха своей гармошки. Выйдет Паша – и польётся раздольная русская песня, а потом начнется пляс с припевками. Павла Васильевича как отличного гармониста часто приглашали поиграть на свадьбы. Ни один деревенский своз не обходился без игры его гармошки в беседах. Павел Васильевич погиб на фронте во время Великой Отечественной войны. При переселении из Вежей его семья переехала в Чернопенье.
Другая ветвь рода Мазайхиных в Вёжах была представлена семьями Кондратия Васильевича и Николая Васильевича. Кондратий Васильевич Мазайхин родился примерно в 1885-1887 гг. Он был смугл телом, черноволосый, с широкой черной бородой. Его семья жила в недостроенном деревянном двухэтажном доме на краю деревни, неподалеку от бань. Его верхний второй этаж был не достроен, в нем даже не было вставлено оконных рам, а оконные проемы были заколочены досками и забиты сеном. По своему характеру Кондратий Васильевич был ленив, жуликоват и пользовался в деревне плохой репутацией. Если, например, Сергея Васильевича в Вежах называли или по имени-отчеству или Сережа Мазайхин, то Кондратия обычно звали Кондраха или Кондрашка-заика (он и все его дети заикались). Все его пять или шесть детей также были вороватые. Помню, если в деревне у кого что-то пропадало, то сразу говорили: «Наверное, Кондрашкины стащили». Одного из его сыновей, Александра, или как говорили – Сашку Кондрахина, примерно в 1937 году застрелил из ружья один из его друзей-подельников. Старший сын Кондратия, Павел, был поразумней и после ранения в 1942 году на фронте его избрали председателем нашего колхоза. Правда, в председателях продержался он недолго, пустился в гулянку и пьянство, разбазаривал колхозное добро, и вскоре его сняли.
С Кондратием, по причине лени и безответственности, на работе постоянно приключались различные истории. Когда его посылали (на сутки) на озера ловить рыбу, у него то рыбу украдут, то избушка сгорит. Однажды, году в 1937-м, его и еще двоих колхозников послали весной на лодке в Кострому за товаром для Сельпо (за кладью, как тогда говорили). В Костроме, в райпотребсоюзе представитель Куниковского Сельпо загрузил лодку товаром для Вежевского магазина, в том числе и несколькими ящиками водки. Кондратий отчалил от берега Волги в Костроме, но ни на другой, ни на следующий день их лодка в Вёжи не прибыла. В деревне забеспокоились, поехали разыскивать. Кто-то из рыбаков-охотников обнаружил пропавших на лесной дороге в местечке Выездное (в этом месте сейчас проходит дамба к р. Узоксе), где Кондратий с товарищами два дня в лесу попивали водку, благо и закусить было чем. Когда их лодку доставили в Вёжи, то при проверке недосчитались 21 четвертинки, двух поллитров водки и чего-то из съестного. Всё это потом долго вычитывали из их заработков в колхозе.
Следует немного сказать о супруге Кондратия Васильевича – бабушке Оле. К сожалению, как её величали, я уж не помню, помню, что она была уроженкой села Спас, и её звали Ольга Торшилова. Она была искусным лекарем и особенно преуспевала в роли повивальной бабки, а поскольку в те времена в семьях рождалось по многу детей, то у неё работа была еженедельно, а то и ежедневно. Она как заправский акушер наблюдала за беременными женщинами и принимала роды. И, конечно, за благополучные роды она получала хорошее вознаграждение, чем и кормилась, в основном, вся их большая семья. Надо заметить, что в роддом в Кострому рожениц стали отвозить где-то с 1940 г. А до этого все женщины рожали с помощью бабушки Оли дома, на печке в пологу, а то и у стога во времена сенокоса. С помощью бабы Оли появился на свет и я.
После пожара в Вёжах в 1947 году семья Кондратия и его старший сын Павел завербовались и уехали в Калиниградскую область, там Кондратий Васильевич и окончил свой земной путь.
Брат Кондратия Васильевича Николай Васильевич Мазайхин родился где-то в начале XX в. Его деревянный дом на четыре окна стоял на так называемой «Мазайхиной» улице. Николай Васильевич был скромным, хозяйственым человеком, немного охотился на уток, и также немного, только для своих потребностей, ловил рыбу. Примерно в 1925 г. он женился на Анне Фирстовой из Вёдерок. У них было четыре дочери: Вера (1927 г.), Римма (1931 г.), Катя и еще одна, имя её я уже забыл.
С братом Кондратием Николай Васильевич жил обособленно, то есть не гостились, не дружили и совместно никогда не работали, кроме как по колхозному наряду.
Николай Васильевич погиб на фронте во время Великой Отечественной войны. Семья его в 1954 году переселилась в д. Клюшниково Каримовского сельсовета.
Помимо наших вежинских Мазайхиных в 30-е годы в Спасе жил Иван Мазайхин (он примерно 1890 г. рождения). По рассказам стариков, он был такой же смуглый, как и Кондраха. Еще помню, что он был близко знаком с Константином Озеровым из д. Привалово, предводителем банды «зеленых» в 1918-1920 гг. По рассказам, он и еще двое наших мужиков были захвачены дозором Кости Озерова и доставлены к нему на допрос. Костя предложил им остаться в его отряде. Иван отказался, и Костя отпустил их с условием молчать о его местонахождении.
Еще в Спасе жил Ананий Мазайхин (примерно, 1910 г. рождения), инвалид Великой Отечественной войны. В 1947 г. он со своей большой семьей завербовался и уехал в Калиниградскую область.
Память о деде Мазае в Вёжах
Нельзя не поблагодарить Н. А. Некрасова, воспевшего в своем стихотворении «Дедушка Мазай и зайцы» наш край, нашу деревню Вёжи и её самого знаменитого жителя – дедушку Мазая. Память о стихотворении Некрасова и о деде Мазае жила в Вёжах всегда. Вот, например, ктото из вежан сходил в Кострому обыденкой, т. е. сходил в город и вернулся обратно в тот же день. Кто-нибудь из деревенских соседей говорили ему: «Ну, тебе, Костя, за сорок верст в Кострому нипочем». Или кто-то метал стог сена на пожне, или колол дрова, а кто-нибудь отвлекал его разговорами. Хозяин, чтоб не отвлекали, говорил: «Ладно, любуйся, а нам не мешай». Когда зимой в мороз ловили рыбу и кто-то из рыбаков, чтобы отогреть замерзшие руки, совал их в карманы шубы или за пазуху, другой рыбак спрашивал его: «Что, Мишуха, руки мерзнут?» и тот отвечал, полушутя: «Больно, родимый, я зябок руками». В 30-50 годы в весенний разлив на реке Костроме иногда ветром-волнением разбивало плоты с лесом, бревна несло по нашей реке Идоломке. В это время мы, вежане, выплывали на лодках-ботниках, цепляли бревна баграми или веревками и тянули к берегу. И тут говорили: «Зацепил и, как дед Мазай, за собою бревно поволок».
А когда Сергей Васильевич Мазайхин весной в половодье возил нас, детей, на своей лодке в школу в деревню Ведерки, сидя на корме переполненной лодки – в шапке, с бородой, правя кормовым веслом, а мы посменно и в разнобой гребли в четыре весла, то это была полная картина того, как дед Мазай везет своих зайцев.
Мазайхин дом стоял на самом высоком месте деревни, в большое весеннее половодье его никогда не подтопляло, как другие дома. Почти все приезжавшие в Вёжи обращали на него внимание. Спрашивали о том, что это за дом, чей. И до Великой Отечественной войны, и в послевоенные годы к нам в деревню приходило много экскурсантов – и из Костромы, и из Костромского района. Наверное, первым экскурсоводом был Василий Семенович Семенов – уроженец Вежей, молодой еще паренек, окончивший учительские курсы (брат Н. Д. Семенова, у которого квартировал М. М. Пришвин). Перед войной он учительствовал или в с. Шунге, или в Ипатьевской слободе, точно не помню. Все свои экскурсии он начинал возле Мазайхина дома. Детской памятью я хорошо помню, как он рассаживает группу приведенных детей на бревна и скамейку у Данилова дома, что стоял через улицу напротив Мазайхина дома, а наша соседка, Мария Павловна Данилова, со своего крыльца кричит моей матери: «Татьяна, смотри – Васютка Семенов опять школьников привел показывать дом Мазая».
В послевоенные годы экскурсии участились. Приходили дети из Денисовского детского дома, из Петриловской школы, из Костромы и других мест. Надо заметить, что все экскурсии их участниками совершались пешком. Бывало, едешь по р. Узоксе на лодке, а по берегу тропинкой среди цветущих заливных лугов идет вереница школьников с котомками за плечами. Некоторые группы школьников совершали походы в местечко Борань (это – в полтора километрах от Вежей), где была стоянка первобытных людей и где перед Великой Отечественной войной велись раскопки.
Церковь в селе Спас

Церковь Преображения Господня в стенах Ипатьевского монастыря.
Приходская церковь наших трех селений стояла в ста метрах от села Спас в сторону реки Идоломки. В каждое половодье это место заливалось водой, и поэтому церковь первоначально стояла на деревянных столбахтупиках. Западнее, метрах в 25 стояла, тоже на столбах, деревянная колокольня-звонница. Церковь окружала ограда кладбища. Кладбище было очень старое, и хоронили, видимо, кости на кости. Так хоронили мы двоюродного дядю Павла Александровича Пискунова в 1948 г., могилу копали и кости попадались.
Я был крещен в этой церкви в 1930 году, и больше в ней бывать не пришлось, т. к. в 1937 году её закрыли. Но вот на колокольню каменную забираться приходилось. Какая панорама, какой вид открывался – реки, озера, стога сена, стада скотины пасутся возле деревень, рощи, леса, луга, заволжские горы… Впечатление осталось на всю жизнь.
В послевоенное время под церковью хранили колхозные телеги-сани и другое крупногабаритное имущество. Однажды под крыльцом церкви спасские ребята Гриша Кузнецов и другие кто-то копали и наткнулись на клад: в большой глиняной корчаге лежало пуда полтора медных царских монет, куда их дели, уж не помню.
Когда разбирали церковь, я не присутствовал ни разу, поскольку мы уже жили в Костроме. Но однажды, проезжая из города мимо, видел её полуразрушенный остов и бревна-доски, лежавшие около. Что поразило – валялись листы бересты, как листы железа, которые были положены под настил кровли досок, вот какой применялся кровельный материал в те времена.
Перевезенная в музей Ипатьевского монастыря и собранная заново церковь производила на меня уже другое впечатление. Это была уже мёртвая статуя. Да и поставлена она была как-то убого: нарядное крыльцо, а точнее просто лестница, была не с бока, т. е. южной стороны, а с торца, с заду, где должна быть сплошная галерея (коридор). В Спасе, на открытом месте церковь была подобна одинокой скале в пустыне, или напоминала одинокий парусник в океане. На старом месте она стояла среди вековых дубов, вязов и тополей, рядом было несколько амбаров. Конечно, на обложках журналов, открытках и фотографиях церковь была подкрашена и производила впечатление. Но, кто видел её раньше, не мог забыть прежнее впечатление.
Что еще удивляет – за многие столетия на кладбище не было, а может, не сохранилось ни одного памятника. Как я сейчас полагаю, их вообще не ставили. Видимо, ставили деревянный крест, он сгнивал, и больше его не восстанавливали. Ведь там за столетия было похоронено множество людей, в том числе где-то там покоится и прах некрасовского героя и друга дедушки Мазая. Вот уже на моей памяти, когда кого-то хоронили на кладбище у церкви, на могилу привозили большой камень (булыжник), взваливали на холмик – и всё. И только еще и сейчас осталось четыре заброшенных надгробия с железными крестами. Это могилы четверых детей моего дяди Василия Алексеевича Романова, умерших в младенчестве в конце 20-х годов от эпидемии. Интересно: люди-родные ходили в храм, заказывали поминальные службы, после заходили на могилы родных, плакали-вспоминали, молились. Большинство жило благополучно, дома какие строили, а вот памятник поставить на могилы отца-матери, жены, сына, видимо, было не принято. Когда намывали дамбу, а она проходит в 50 метрах от кладбища, работники Гидростроя с попустительства местного населения (тогда еще был колхоз) проложили по середине кладбища дорогу в Спас, т. е. съезд с дамбы через кладбище в село. И вот уже полвека самосвалы, трактора, грузовики и легковые машины сотрясают прах наших предков.
В связи со строительством дамбы для жителей Спаса было отведено новое кладбище – с южной стороны от села. На нём сейчас хоронят и городских жителей, уроженцев наших погостов. Сейчас всем на могилах ставят памятники и кресты с фотографиями умерших.
М. Г. Тупицын

Крестьяне деревни Вёжи. Слева направо: Михаил Григорьевич Тупицын, Нестор Алексеевич Лёзин, Пётр Фёдорович Пискунов. Фотография около 1913 года.
У моего отца было много общего с его другом – Михаилом Григорьевичем Тупицыным. Друзья с детства, они в молодости всегда были рядом – на всех гулянках. И на I Мировую войну их забрили в один день, только воевали в разных армиях и на разных фронтах. А в гражданскую и служили бок о бок – в понтонном батальоне на Северной Двине, близ Архангельска. Почти одновременно обзавелись они женами, одинаково вели хозяйство до коллективизации, вместе ловили рыбу.
Особенно сблизились наши семьи в годы Великой Отечественной войны, когда дядю Мишу и моего отца мобилизовали для работы в госпиталях Костромы в качестве рыбаков. Отец обеспечивал рыбой эвакогоспиталь No 3031 (ныне это госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны на ул. Лермонтова), а дядя Миша – другой эвакогоспиталь, размещавшийся в «Красном доме» (нынешнее здание областной администрации на Муравьёвке), и не только рыбой, а зачастую и мясом диких животных и птиц. А помощником у них в эти годы, причем самым главным, был я, подросток, – и на ловле рыбы, и на охоте, и на доставке даров природы в Кострому, раненым бойцам и медперсоналу. Позднее, после окончания войны, когда госпиталь расформировали и дядя Миша был как бы демобилизован, он работал в колхозе: председателем ревизионной комиссии, весовщиком, ловил рыбу.
Но каждую весну и каждую осень главным его занятием была охота на уток. Охотников в Вёжах было много, а дядя Миша считался одним из самых удачливых, самых опытных. И ружье у него было отменное – «Зауэр» двенадцатого калибра. За семьдесят-восемьдесят шагов сбивал любую дичь. По осени за одну зорю брал порою по тридцать-сорок уток. Излюбленными местами утиной охоты являлись у него озера Великое и Ботвино, иногда заезжал и на озеро Каменик. А на ночлег он и многие другие охотники устраивались на берегу озера Ботвино, в рыбацкой избушке, которая стояла, если можно так сказать про избушку, на стратегическом месте – в устье реки Касти. Отсюда можно было на ботнике уехать и на Великое озеро, и на Попово, а пораньше встать – и на Каменик. Иногда после вечерней зорьки в избушку съезжалось до десятка охотников. Засиживались допоздна. Пили чай, пекли в печурке картошку и ели её с солью. А сколько интересных историй рассказывалось в такие вечера, особенно если из рыбаков дежурил Степан Петрович Сергеев, по прозвищу «Степа-Гусь»!
Двое дежуривших рыбаков и дядя Миша спали на нарах, а мы, ребятня, на земляном полу на сене. Перед сном дядя Миша объявлял: Ну, ребятишки, давайте утром не будиться. Это означало: кто раньше проснулся, потихоньку встает и – в ботник, едет в шалаш, к месту охоты. А кого разморил сон, те, случалось, и просыпали утреннюю зорьку. Над таким горе-охотником смеялись, подшучивали: «Вот соня, дома-то не спалось, так на Ботвино уехал, на сене в избушке валяться!»
Поздней осенью 1939-го, а может, 1940 года московские охотники, в том числе известный писатель А. С. Новиков-Прибой, пригласили дядю Мишу к себе в гости. А познакомился он с ними в начале 30-х годов. Тогда ему, как отличившемуся на службе в царской армии (в I Мировую он служил разведчиком в армии генерала Брусилова и был награжден Георгиевским крестом), органами ОГПУ было предъявлено обвинение, и несколько дней пришлось сидеть в КПЗ. Вскоре после того, как его отпустили, он по совету друзей от греха подальше уехал из наших мест и года полтора жил на кордоне Ворошиловского заказника на реке Оке. Обслуживал высоких советских охотников – разного ранга военных и хозяйственных руководителей, работников литературы и искусства: делал для них шалаши-укрытия, дрессировал подсадных уток, отыскивал тетеревиные тока и тому подобное.
В Москве дядя Миша пробыл дня три или четыре. Встретили его как старого друга. Катали по Москве на легковом автомобиле. Организовали застолье, пели песни, читали стихи, балагурили. Зная, что он отличный гармонист, быстро нашли гармошку, и дядя Миша сыграл им и спел знаменитые тогда «Кирпичики». Как рассказывал дядя Миша, любимой песней Алексея Силыча была другая – «Мой костер в тумане светит…» Кстати, он её и у нас не раз напевал, на привале, после охотничьей зорьки.
Писательский кабинет Новикова-Прибоя, по словам дяди Миши, был оформлен как корабельная каюта – этим, видимо, подчеркивалась причастность Алексея Силыча к морю и флоту, а может, и понятная ностальгия по ним. Писатель подарил дяде Мише велосипед и свою знаменитую книгу «Цусима» с таким автографом: «Другу-охотнику М. Г. Тупицыну от автора А. С. Новикова-Прибоя». Эту «Цусиму» дядя Миша давал мне читать, еще когда жил в Вёжах, и она, после школьных учебников, была первой прочитанной мною книгой.
В 1949 году на дядю Мишу обрушились несчастья: летом, в грозу, изо всего стада молния выбрала именно его корову, а вскоре скончалась его жена Анастасия Сергеевна. К тому времени уже вовсю заговорили о скором затоплении наших деревень будущим морем. И дядя Миша вместе с младшей дочерью, работавшей в колхозе за пустые трудодни, решили перебраться в Кострому, где уже жила и работала медичкой Капитолина, старшая дочь. Дом свой в Вёжах продали Костромскому маслозаводу, купили в Костроме небольшой домик на улице Кирпичной (ныне – ул. Терешковой). Тамара устроилась ткачихой на комбинат имени Зворыкина, где и проработала до выхода на пенсию. Дядя Миша к городу не приживался. Летом и осенью приезжал в Вёжи охотиться и рыбачить. Свой небольшой ботник переделал: нарастил борта, навесил маленький мотор. А зимой ловил рыбу на блесну, зарабатывая этим на жизнь. Но годы и пережитое брали своё. Дядя Миша всё чаще стал прибаливать, а в конце осени 1958 года после недолгой болезни скончался.
Прут, который предсказывал погоду
В старые времена, да и не очень старые, лет так пятьдесят назад, люди определяли погоду по различным приметам. Например, если солнце село в облака вечером, то на другой день непременно жди дождя. Или вот: если ворона села на сухой сук дерева и ощипывается – это тоже к дождю. И таких примет масса. Всё это было выработано вековыми наблюдениями за природой. Но человек стремился найти другие методы и средства определения природных явлений. Впоследствии был изобретен такой прибор, как барометр.
В нашей же деревне Вёжи, в годы моего детства, а это 1935-1940 гг., барометров ни у кого не было. И жители прогноз погоды составляли по вышеописанным приметам. Но надо заметить, что у многих были свои, как бы индивидуальные приметы, и каждый верил и определялся по своей. Но вот с приездом группы московских охотников-писателей в 1936-1938 гг. во главе с известным автором «Цусимы» А. С. Новиковым-Прибоем в доме нашего известного охотника Михаила Григорьевича Тупицына появился прут, который предсказывал погоду.
Я как сейчас помню, это был прямой ивовый прут длиной 70-75 сантиметров, приколоченный корнем к тесовой перегородке в сенях. По горизонтали по всей длине прута карандашом была проведена черта. Вот и всё устройство. Прут стал тем необходимым в доме и деревне инструментом, как, например, коса, весло, ножницы и т. д. В первое время некоторые жители смотрели на это с усмешкой, как на некую выдумку-причуду.
Кто был автором этого устройства, я уже не помню: или сам Алексей Силыч, или кто-то из его многочисленных друзей-писателей. Вот некоторые их фамилии – Перегудов, Зуев, Ставский, приезжал однажды молодой еще С. В. Михалков. И даже среди них или с ними был какой-то гипнотизер, у которого из русской печи чугунки и плошки сами выползали на шесток. Приезжали они не одни, а в сопровождении костромских охотников – это Александр Платонович Прохоров, Борис Павлович Козлов, дядя Костя Соколов и другие.
Но вернемся к пруту. Со временем прут завоевал авторитет. Помню, отец, посылая меня зачем-либо к дяде Мише, непременно наказывал: посмотри или спроси дядю Мишу, как прут, куда пошел – вверх или вниз. То есть если кончик прута поднялся выше карандашной черты, значит, надо на завтра ожидать сухой погоды, а если опустился вниз – жди дождя, ненастья.
С тех давних пор в памяти остались и такие впечатления. Народ в деревне летом поднимался рано. Председатель, завхоз, бригадиры, члены правления, заведующий фермой и другие мужики собирались на наряд у колхозной конторы. Каждый, подходя, садился на скамейку или корточки возле вкопанной бочки с водой, закуривал. И непременно начинал разговор о погоде. Вот подходит Николай Данилович Семенов и говорит: «А чего ждать, вчера из стада в гору впереди всех шла черная корова Сашухи Хемина». А Михаил Романович Юрин, раскуривая свою флотскую цигарку, поддерживает: «Да вот смотри – одним боком курится, это уж точно к дождю». А дядя Саша Горбунов утверждает, что если с утра дождь, то день будет гож. Но вот подходит, закуривая, шут и чудак Александр Дмитриевич Клементьев. Послушав разговор о погоде и, выбрав паузу, он говорит: «А вот у меня зачесалось под мошной, наверное, будет дождь оболошной». Тут все смеялись.
Дом Михаила Григорьевича Тупицына был рядом с конторой, и многие ждали, когда выйдет именно Григорьевич. А вот и Григорьевич идет из проулка, все смолкают, и кто-то из мужиков задает вопрос: «Ну, как, Григорич, прут?» Григорьевич, поглядывая на небо, негромко отвечает: «Да как вот опустился еще позавчера, и не поднимается». Это было как бы окончательное заключение, и быстро принималось решение: на сенокосе делать нечего. И наряд давался другой: кому ехать за жердями в лес, кому – на силос, кому – ремонтировать пол в конюшне.
А. И. Ленёв
В числе самых выдающихся уроженцев нашего края был житель деревни Ведёрки Алексей Иванович Ленёв (1887 – 1940 гг.). Как рассказывали наши старожилы, и подтверждает его внучка, Вера Николаевна Орлова, Алексей Иванович родился в бедной семье. Однако еще в детстве его приметил глава старообрядческой общины Ведёрок Сергей Черепенин. Как говорила моя мать, уроженка Ведёрок, «Алексею Ивановичу радел Серега Черепенин». Молельный дом Черепенина, как вспоминали старожилы, содержал-финансировал крупный петербургский предпринимательстроитель, уроженец д. Ёмутово (современная Ярославская область) купец Юдин. Своих детей у С. Черепенина, видимо, не было, и он обратил внимание на смышленого и услужливого Алексея, который в детстве служил у него на побегушках. Когда Алексей подрос и пристрастился к охоте, Черепенин помог ему купить ружьё и ботник. Алексей Иванович стал поставлять к столу Черепенина дичь – дупелей, рябчиков, уток и пушнину – лис, куниц. С возрастом Алексей Иванович стал известным охотником, организатором облав на волков, лис и куниц. У него были охотничьи собаки, стая подсадных уток, различные капканы, флажковая облава и другие охотничьи принадлежности. Будучи девчонкой, говорила мать, мы не раз бегали к дому Алексея Ивановича смотреть на убитых волков. К А. И. Ленёву приезжали богатые охотники из Костромы и других мест, с которыми он охотился на волков, медведей, лис, уток, глухарей, дупелей и т. д. В нашей затопляемой низине медведи не водились, но в рассказах об Алексее Ивановиче часто вспоминали об охоте на медведей. Видимо, он ездил охотиться на них в Шодские, Абабуровские и Андреевские леса.
Где-то в 1912-1914 гг. Алексей Иванович выстроил в Вёдерках большой кирпичный дом на 6 окон по лицу, двухэтажный, с несгораемой бетонной кладовой. Это был самый лучший дом в Ведёрках. С 1920 года Алексей Иванович проживал в Костроме на улице Мясницкой (д. 42, кв. 1) и работал заведующим заказника в Костромском районе. Как вспоминали старожилы, он в годы НЭПа работал в Губсельхозсоюзе (возможно, он работал и там, и там одновременно). Где-то с 1930 года А. И. Ленёв стал председателем Костромского общества охотников. Как рассказывает его внучка Вера Николаевна, на охоту А. И. Ленёв обычно брал с собой громоздкий фотоаппарат на треноге с покрывалом, которым сделал много замечательных фотографий.
По словам внучки, в Костроме Алексей Иванович жил с другой женщиной. Его первая жена Мария жила в Ведёрках в половине того большого дома. Когда А. И. Ленёв продал свою половину, я не знаю, но по всей вероятности это произошло где-то в начале коллективизации. В то время многие сообразительные мужики, предчувствуя недобрые времена, во многих деревнях распродавали свои хорошие дома и переселялись в город, где покупали комнаты в тесных коммуналках или строя деревенские избы в «Дунькиной деревне»в.
Алексей Иванович умер в Костроме 2 декабря 1940 г. от крупозного воспаления легких.
Лодка для Л. Д. Троцкого
Мой отец Петр Федорович Пискунов, его брат Василий Федорович и житель д. Ведёрки Иван Иванович Фирстов во время Великой Отечественной войны как нестроевые по преклонному возрасту были мобилизованы на трудовой фронт. Как рыбаков, их определили в эвакогоспиталь No 3031 в Костроме, которому в наших местах были отведены два озера – Семеново и Першино – где они летом и зимой ловили для раненых рыбу. И вот в мае 1944 года в Кострому на нашей лодке был доставлен очередной улов весенней рыбы. Конечной пристанью являлся дебаркадер городской переправы за Волгу, где рыбаки сдавали лодку под охрану шкиперу дебаркадера за сумку или ведро рыбы. В этот раз, как всегда, приехала автомашина из госпиталя, погрузили рыбу, лодку заперли на цепь у кормы дебаркадера, где и размещалась шкиперская каюта. Уехали в госпиталь, сдали рыбу, заночевали в городе, утром пришли на дебаркадер, а лодки нет, шкипер только развёл руками – не видел, не слышал, как лодку увели. Был самый сезон ловли, лещевый нерест, в этот же день на попутном сплавном катере отец приехал домой. Что делать, нужна небольшая удобная лодка, и срочно. Отец сообщил И. И. Фирстову и просил его поискать в Ведёрках, не продаст ли кто нужную лодку. Через несколько дней Иван Иванович сообщил, что есть небольшая лодка-каюра у его соседки Марии Ленёвой, муж которой, вышеупомянутый Алексей Иванович Ленёв, был известным охотником и организатором охот для высоких особ и богатых людей из Костромы и других мест. Алексей Иванович занимался охотой с малых лет. Мать моя, до замужества живавшая в Ведёрках, вспоминала, что он в 1907-1910 гг. с охотниками привозил в дровнях с охоты не только убитых волков, но даже и пойманных в капканы живых (он неоднократно устраивал флажковые облавы на волков и лис). У Ленёва была стая гончих собак, подсадные утки, всевозможные капканы и другие охотничьи принадлежности. С 1920 года Алексей Иванович в Ведёрках не жил. В Костроме Алексей Иванович работал в сельскохозяйственном обществе, позднее – в Обществе охотников, имел большие связи и знакомства.
Когда отец пошел смотреть лодку, которая, видимо, лет 18-20 пролежала в амбаре на перекладах под потолком, и была, так сказать, сырая, необнабоена, не смолена и не крашена. Тут Иван Иванович и поведал отцу, что эту каюру Алексей Иванович заказывал изготовить мастерам д. Орлово, что под Сандогорой, для самого Л. Д. Троцкого, который обещался приехать на весеннюю или осеннюю охоту на уток в наши места. Но приезд по каким-то причинам не осуществился. А через несколько лет, как писалось выше, и Алексей Иванович покинул свою деревню и выстроенный новый дом.
По охотничьим делам Алексей Иванович, видимо, был знаком с бывшим офицером царской армии И. И. Губером, который проживал на лесном кордоне Березовском в Андреевской волости Костромского уезда. На этот кордон и приезжал на охоту – в основном, видимо, на медведя – Л. Д. Троцкий. Видимо, там и была обговорена очередная охота на уток в наших местах и дано Алексею Ивановичу поручение изготовить для Льва Давидовича удобную и безопасную лодку. Правда, поохотиться Троцкому в наших местах так и не довелось.
Купив эту каюру, мы сразу, не обделав и не просмолив, пустили её в дело, так как был самый сезон лова. Правда, на ней можно было плавать только с одним кормовым веслом, как на ботнике, но она была устойчива, поднимала двух человек и 150 килограмм груза. Когда кончился весенний лов, мы её вымыли, просушили, проконопатили, навели новые, повыше борта, сделали распашные весла. «Лодка Троцкого» стала у нас универсальной, на ней можно было, не боясь, ехать в любой ветер, можно было вдвоем перетащить из реки Касти, например, в озеро Попово. На ней можно было за три часа доехать от Вежей до Костромы по рекам Соти, Узоксе и Костромке.
После переселения в 1953-1954 гг. из Вежей в Кострому лодка служила нам и как транспортное средство, и для ловли рыбы, и для поездок на сенокос в наши еще не затопленные угодья. Случай помог нам найти надежный причал на мельзаводе, где шкипером работал на зерноразгружателе А. И. Басов (его сын Борис учился вместе с моим братом Анатолием в школе No 30). И так «лодка Троцкого» достойно служила нам до 1967 г. К этому времени на неё «положил глаз» председатель областного общества охотников Борис Александрович Мясников, который не раз предлагал отцу продать её. Он говорил, что к нему на охотбазу в Мисково приезжают большие начальники, но на современных дюральках с мотором охотиться и рыбачить не так удобно, а на маленьких ботниках – небезопасно. А наша лодка – легка, устойчива и ходкая на веслах. Я в те годы был занят работой, семейными делами, сын, дочь были маленькими, и рыбалка и охота ушли на задний план. Отец на водохранилище в Спасе в бригаде от рыбозавода рыбачил на казенных больших лодках. Поэтому мы и решили продать нашу лодку Б. А. Мясникову, что-то за 60 или 80 рублей. Помню, отец тогда сказал в напутствие: «Не пришлось на ней Троцкому поохотиться, не судьба, пусть тогда наши начальники охотятся».
М. М. Пришвин в Вёжах
Писатель М. М. Пришвин приезжал в Вёжи дважды: первый раз – весной 1938 г., второй – весной 1940-го или 1941-го.
Первый раз он приехал, видимо, узнав о большом весеннем разливе 1936 года, когда нашу деревню залило так, что во многих домах вода доходила до окон первых этажей и стояла даже в русских печах. В это время было залито большое количество лесных угодий, незатопленными остались только отдельные небольшие островки в лесах. Тогда погибло много зверей. Лоси плавали, искали островки суши и, не находя, – тонули. Их вздутые туши позднее наши мужики находили в лесах и на полое. Зайцы, когда уходил из-под них последний клочок суши, плавали, тонули, забирались на пни, кривые деревья, бревна. Некоторые мужики снимали их и привозили в деревню или высаживали где в лесу на островок. Мой отец как-то поехал на ботнике развешивать мережи для сушки и встретил в лесу мертвого волка, который плавал на толстом бревне, положив голову и уцепившись за бревно передними лапами.
И вот, М. М. Пришвин и решил посетить наш «болотисто-низменный край». Узнал он о наших разливах, видимо, от писателя А. С. НовиковаПрибоя, который приезжал в Вёжи на год или два раньше. Пришвин приехал загодя до разлива, еще по зимней дороге. Первый раз в 1938 году он приехал один и квартировал у Николая Даниловича Семенова. Его двухэтажный деревянный дом стоял самый крайний от реки Соти, с западной стороны деревни и из окна второго этажа был хорошо виден весь необъятный простор весеннего разлива, летние цветущие луговые травы, осенью – сотни стогов скошенного заливного сена, зимой – бескрайняя белоснежная гладь.
О приезде М. М. Пришвина в первый раз я помню очень немного, так как мне тогда было всего шесть лет. А вот от его второго приезда у меня в памяти осталось многое. Во второй раз он приехал в Вёжи также по зимней еще дороге и жил долго. В конце мая к нему приехали два сына, и я помню, как они уезжали. Отец мой в это время был председателем нашего колхоза им. Сталина, и он дал Михаилу Михайловичу лошадь, чтобы проводить сыновей в Кострому на телеге. Мы, ребятишки, провожали их за амбары по городской дороге.
Ну а самые памятные мои встречи с Пришвиным были на реке Соти, когда в начале апреля начинался первый весенний лов рыбы. Течение усиливалось, вода прибывала, лёд на средине реки вспучивался, а от берегов еще не отрывался, в связи с чем у берега образовывались так называемые закраины, и, чтобы пройти на лёд реки, рыбаки бросали жерди или какое-нибудь толстое дерево. В это время наши мужики-рыбаки ставили со льда ветеля на жерди и ловили первую весеннюю рыбу. К этому времени у многих мясо-солонина кончалось, зимняя рыба была распродана и съедена на масленице, и первая весенняя рыба являлась большим съестным подспорьем. В это время уже большими стаями прилетали утки и искали небольшие озерца разлившейся вешней воды. Всюду был слышен кряк уток и шварканье селезней. Некоторые охотники уже открывали свой сезон с подсадными утками.
М. М. Пришвин прелесть этого периода не упускал. Каждое утро с восходом солнца мой отец и другие рыбаки спешили на подъём ветелей. А идти нужно было мимо Семенова дома, и Пришвин уже ждал их, сидя на ступеньке крыльца или прохаживаясь по выстилке. Он был в длинных резиновых сапогах, в кожаном поношенном пальто, с фотоаппаратом на груди, в очках и с палкой (падогом, как говорили у нас) в руке. Дорога уже рушилась, на ней имелись провалы от лошадиных ног, в оврагах были зажоры, и без палки-падога идти было небезопасно.
Мужики шли с пешнями в руках или на плече. Когда мы с Пришвиным подходили к Соти, он уже вытирал с лица пот, часто останавливался и протирал запотевшие очки. Протирая очки, он сказал, что пальто и сапоги ему тяжеловаты. Вот подходим к Соти, на лёд мужики прошли по жердочке через закраину, опираясь на пешни. С одной палкой идти было опасно – вдруг палка скользнёт, и окажешься в воде, и тогда или мой отец или кто-то из рыбаков со льда бросал Михаилу Михайловичу пешню, и он перебирался на лёд, опираясь на неё.
Тут начиналась работа: если подморозило, то расчищали ледником (ледник – это как сак, только сетка проволочная) ото льда льяло и отвязывали от плахи жерди, к которым были привязаны ветеля. Начинался подъём рыбы. Михаил Михайлович стоял с боку подъёма наготове с фотоаппаратом. Вот из воды выходят первое-второе кольцо, горло и там под горлом трепыхались язи-щуки. Рыбу вытряхали, ветель промывали от грязи и мусора, смотрели, нет ли дыр, если есть – ушивали, и снова с приговором: «Ловись, большая и маленькая», опускали ветель в льяло и втыкали в дно жердь. М. М. Пришвин переходил от одного рыбака к другому, рассматривал бьющуюся на льду рыбу, фотографировал. Иногда предлагал продать понравившуюся рыбу, особенно, помню, ему нравились налимы. Мужики, у кого был хороший улов, на уху ему всегда давали.
Однажды был такой случай. Отец поднял один ветель – пустой, второй-третий – тоже пустые, и говорит мне:
– Ну, Лёшка, сегодня, видно, будем есть картошку.
Поясню, что в это время, приходя с Соти с рыбой, утром всегда жарили большую семейную сковороду самой лучшей рыбы. Тут Михаил Михайлович достал из кармана блокнотик и что-то записал. Он это делал часто, даже звуки чибисов и других птиц записывал.
На другое утро, когда отец поднимал на Соти первый ветель, Михаил Михайлович наклонился ко мне и спросил:
– Ну, как, Лёшка, сегодня рыбу будем есть или картошку? Услышав это, отец засмеялся, и, подняв вверх ветель до 5-го кольца, где трепыхались две или три рыбины, сказал:
– Нет-нет, будем рыбу жарить!
Этот сезон длился недолго, с неделю, потом река выходила из берегов, лёд проносило, начинался лов с ботников, когда ветеля ставили уже с веревки (перемёты). Михаилу Михайловичу тоже требовалась лодка, но ботники в это время у нас являлись, так сказать, в большом дефиците. Старые мастера – Н. Г. Копотев, Николай Агеевич Корнилов и другие к этому времени уже ушли из жизни, и большинство наших рыбаков покупали у сплавщиков леса по р. Костромке и Соти грубо сработанные каюры: их переделывали, разводили в ширину. Такую каюру купил у сплавщиков и Пришвин, но она была длинная и узкая, т. е. верткая, и ему, как не очень опытному в этом деле, плавать на ней было рискованно. Ему посоветовали развести её пошире, но это делается постепенно, не сразу – летом, в пруду, в теплой воде. Но лодка Михаилу Михайловичу нужна была скоро. За это взялись Н. К. Желтов и И. А. Ефремов, которые решили распарить и развести лодку на костре. Но мастера они оказались плохие, и разведенная ими лодка получилась «горбатая». Когда Пришвин садился на корму, то её нос поднимался высоко. Плавать весной по затопленному лесу с распашными веслами почти невозможно: веслам мешают то кусты, то дерево, поэтому тут только можно проехать с кормовиком. Я помню, как он приходил к отцу жаловаться на мастеров: заплатил дорого, а плавать невозможно. А мастера денежки уже пропили-истратили. Но как и в первый приезд, так и во второй Пришвина выручали мужики, хотя весеннее время ценилось как золото. Все спешили по большой воде справить свои дела, особенно сплотить и пригнать по воде лес-дрова, вывезти на лодке навоз на огород, съездить по делам в город, а главное – наловить рыбы. Пришвина выручали его хозяин дома Николай Данилович Семенов, его дядя-охотник Иван Сергеевич Семенов, свояк Николая Даниловича Михаил Сергеевич Фирстов и другие, которые брали его с собой в лес, на охоту на уток, на лов рыбы. Когда уже спадала вода, Михаил Михайлович ходил вокруг деревни. У бань и амбаров было много старых больших дубов и вязов, там в дуплах имелось множество скворцовых гнезд, и Пришвин по несколько часов просиживал на бревнышке или ступеньке лестницы бани, наблюдая за жизнью скворцов.
Большую часть своего времени Михаил Михайлович проводил за писаньем, сидя у окна, из которого открывался вид на природу.
В Вёжах многие пожилые мужики и бабы называли М. М. Пришвина «барином». Это ему, видимо, не очень нравилось. Однажды случился такой эпизод. Н. К. Желтов и еще кто-то были в запое, они знали, что Пришвин любит налимов, а дело уже было меженью, когда вода спала и рыба ловилась не очень. Они поймали большого налима (килограмма на два с половиной) и принесли его продать Михаилу Михайловичу. Он обрадовался, спросил, сколько налим стоит, они с него запросили чуть ли не на четверть (три литра) водки и при этом постоянно называли его «барин». Пришвин разобиделся и громко сказал:
– Барин-барин! Что я вам за барин! Вы думаете, у меня денег-то мешок? Забирайте своего налима, и больше я у вас и за копейку ничего не куплю.
Уезжая из Вежей, свою горбатую лодочку Пришвин оставил хозяину дома Н. Д. Семенову. Однако она была не очень удобная и для ловли рыбы и просто для езды и поэтому обычно лежала в сарае. Во время войны дети Николая Даниловича вытащили её на берег и иногда на ней ездили. Потом она была бесхозной, считалась как колхозная, когда на хмельниках начинались полевые работы, а её (плотину) еще не ставили, на «лодке Пришвина» колхозники переезжали за реку Идоломку на хмельники. При этом лодка не раз опрокидывалась, благо вода к этому времени была уже не очень холодная, а река не глубокая, и всё кончалось благополучно.